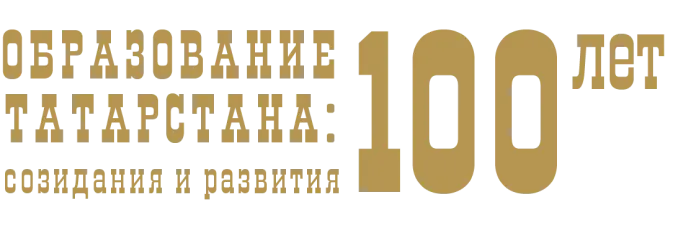А.Р. Лурия «Этапы пройденного пути. Научная автобиография» Годы ученичества
Когда свершилась революция 1917 г., я был 15-летним подростком. Наша семья жила в Казани. Мой отец был врачом, специалистом по желудочно-кишечным заболеваниям и преподавал в Казанском медицинском институте. После революции он организовал в Казани Институт Повышения квалификации, а через несколько лет переехал в Москву, где стал заместителем директора Центрального института усовершенствования врачей...
Я не получил законченного образования. В 1917 г. я закончил лишь шесть классов восьмилетнего гимназического курса. Почти все, что я могу припомнить сейчас об этих годах формального классического образования, сводится к пяти часам занятий в неделю латинским языком, на которых мы научились писать импровизации на различные темы. Позднее занятия латинским языком оказались полезными, так как помогли мне в изучении английского, французского и немецкого языков…
В 1918 г. я закончил краткосрочные курсы, затем поступил в Казанский университет, где царил невероятный хаос. Двери университетов широко распахнулись перед всеми выпускниками средних школ, как бы плохо они ни были подготовлены. Тысячи молодых людей поступали в университеты, которые с трудом справлялись с задачей их обучения. В те дни не хватало многого. Не хватало профессоров, подготовленных к работе в новых условиях. Некоторые из старых консервативных профессоров были настроены против революции, другие были склонны принять революцию, но не имели ясного представления о ее значении для образования.
Традиционная программа включала в то время такие предметы, как история римского права и теория юриспруденции, рассчитанные на дореволюционное общество, что теперь было, конечно, совершенно непригодно; никто не знал, каковы должны быть новые программы, и наши профессора находились в состоянии растерянности. Вспоминаю трогательные попытки одного профессора, читавшего историю римского права, приспособиться к новым условиям. Он переименовал свой курс, дав ему название «социальные основы права», но его попытки модернизировать свои лекции остались безнадежными. Значительно лучше была обстановка в области медицины, а также в области физики, математики или химии, однако в общественных науках, которым меня обучали, царила в то время полная растерянность…
В этих условиях усилились студенческие дискуссии, шли бесчисленные собрания студенческих групп и научных обществ, где живо обсуждалось, каким будет общество будущего. Я принимал участие во многих подобных дискуссиях и под их влиянием заинтересовался утопическим социализмом, полагая, что это поможет мне понять будущий ход событий. Эти дискуссии, касающиеся современной истории, привели также к тому, что я увлекся некоторыми основными проблемами, касающимися роли человека в формировании общества: как возникают социальные идеи? Как они развиваются? Как они становятся движущей силой социального конфликта и социальных изменений?
В возрасте двадцати лет, когда я завершил свое формальное образование, я начал писать книгу «Основы реальной психологии» (Казань, 1922 г.). Труд так и остался в рукописном виде и, хотя он не имел никакой научной ценности, сам факт, что я отважился его написать, заслуживает упоминания, потому что мои дерзания были типичными для молодежи моего времени. Типичным было и то увлечение, с которым я занялся психоаналитическими исследованиями. Прежде всего я организовал маленький психоаналитический кружок. Я даже заказал почтовую бумагу со штампом «Казанская психоаналитическая ассоциация», напечатанным на русском и немецком языках. Затем я отправил информацию об организации этой группы самому Фрейду и был поражен и обрадован, получив ответное письмо, начинавшееся с обращения «Дорогой господин президент». Фрейд сообщал, что он рад был узнать, что в таком отдаленном восточном русском городе, как Казань, организовался психоаналитический кружок. Это письмо, написанное готическим немецким шрифтом, и другое, санкционирующее русский перевод одной из его небольших книг, находятся в моем архиве. На ранних этапах работы кружка мы занимались обследованием пациентов Казанской психиатрической клиники, представлявшей собой часть медицинского факультета Казанского университета. Интересно, что одна из пациенток этой клиники оказалась внучкой Федора Достоевского…. Позднее я опубликовал несколько статей, основанных на идеях психоанализа, и даже составил план книги об объективном подходе к психоанализу, которая никогда не была напечатана. В конце концов я убедился, что ошибочно считать человеческое поведение продуктом «глубин» сознания, игнорируя его социальные «высоты».
Когда в 1921 г. я закончил Казанский университет, мой дальнейший путь в науке оставался неясным. Отец убеждал меня поступить в медицинское учебное заведение, но моей основной целью было стать психологом. Я хотел участвовать в создании нового объективного психологического подхода к поведению, к анализу событий реальной жизни. Я остановился на компромиссе – объединить оба пути. В то время можно было одновременно поступить в разные учебные заведения. Я начал заниматься медициной и закончил два курса медицинского факультета, после чего в моих занятиях наступил перерыв, и возобновил я их лишь спустя много лет. Одновременно я учился в Педагогическом институте и посещал Казанскую психиатрическую клинику.
Несмотря на все эти занятия, в те годы непросто было приобрести опыт профессиональной лабораторной работы. Ни в Казанском университете, ни в Педагогическом институте не было психологических лабораторий. Одна из первых психологических лабораторий, основанная В.М. Бехтеревым в Психиатрической клинике Казанского университета, к тому времени закрылась. Единственным экспериментальным прибором, который мне удалось найти в университете, был старый, остававшийся без всякого употребления хроноскоп Гиппа для измерения времени реакции. Я воспользовался возможностью осуществить некоторые из моих идей, поступив в качестве лаборанта в Казанский институт научной организации труда, который был организован сразу после революции. Используя старый хроноскоп Гиппа, я начал изучать влияние тяжелой работы на умственную деятельность. Моими испытуемыми были рабочие-литейщики. Я пытался измерить влияние словесных инструкций на время реакции. Это было первой моей попыткой установить роль речи в регулировании времени реакции. Мои результаты оказались поверхностными и не очень интересными, но, пытаясь найти способ их опубликовать, я вступил на путь, который в дальнейшем привел меня в Москву.
Моя первая поездка в Петроград стала для меня незабываемой. В.М. Бехтерев, тогда уже старый человек с длинной белой бородой, показал мне свой Институт мозга, который и ныне носит его имя. Я находился под впечатлением его колоссальной энергии и совершенно иного мира науки, отличного от того, что я знал в Казани. В.М. Бехтерев согласился стать членом редакционной коллегии нашего журнала при одном условии. Мы должны были добавить к заглавию слова «и рефлексологии», что являлось названием, которое он дал психологической системе. Мы охотно согласились, и В.М. Бехтерев стал одним из главных редакторов нового журнала. Другим был видный физиолог из Казанского университета Н.А. Миславский, фактически не имевший никакого отношения к психофизиологии, труду или рефлексологии. В те годы не хватало бумаги, и мне пришлось раздобыть несколько пачек желтой бумаги на мыльном заводе, чтобы напечатать первый номер журнала. Этот небольшой опыт академического антрепренерства имел неожиданный для меня результат – конец моего научного «ученичества» в Казани и приглашение в Москву…
Весь этот период моей жизни был периодом наивного поиска своего пути в психологии. Однако пятьдесят лет спустя я чувствую, что этот период моей жизни имел большое значение для дальнейшего моего становления как психолога. Хотя, казалось бы, в последующие годы я работал над совершенно другими проблемами, но основные, центральные темы моих первых исследований остались прежними.
ссылку вставить в список источников:
Лурия Александр Романович – (1902–1977, Казань) – известный психолог и врач-невропатолог, один из основателей нейропсихологии, совместно с Л.С. Выготским и А.Н. Леонтьевым закладывал основы отечественной психологии. Доктор педагогических наук, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Академии педагогических наук РСФСР и АПН СССР.