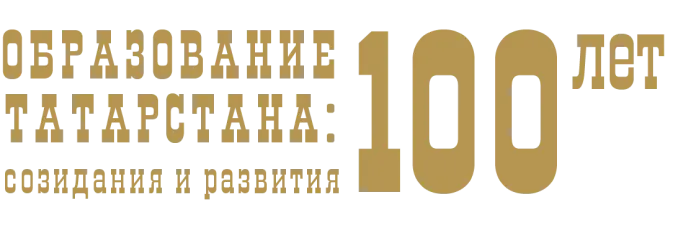Н.П. Муньков. Страницы памяти. 1942 год
Шли первые недели самой суровой войны. Митинг в университете был волнующим. Учёные и студенты, выступая, говорили, что сделают всё для победы. Студенты просили направить их туда, где больше всего в них нуждается Родина. И вот уже комсомол под руководством партийной организации формирует первые отряды студентов для отправки студентов на трудовой фронт в колхозы и совхозы республики. Урожай в тот год выдался богатый. Студенты-историки поехали на Каму, в колхозы и совхозы Чистопольского и Муслюмовского районов. Добирались туда на самоходной барже. Расселились в деревнях Тойгильдино и Новый Черемшан. Один из нас возглавил группу студентов, работавших в овцеводческом совхозе Тойгильдино.
Приехав в совхоз, мы поселились в одном из сараев, наскоро оборудовав его под жильё. Сарай разгородили верёвкой; на неё развесили простыни: одну половину заняли ребята, другую – девушки. Нашим завхозом была студентка, только что перешедшая на II курс Тося Мешанина. Раз в неделю она вместе с бригадиром на совхозной лошадке выезжала на базар, чтобы сделать закупки съестных припасов. За работу нам платали деньгами. Работали дружно, с подъемом. Норму постоянно перевыполняли, зарабатывали очень прилично. Деньги складывали в общий котёл и на общем собрании решали, куда и на что их следует расходовать. Стихийно у нас образовалась коммуна. Она пришлась по душе почти всем. <…>
За всё время работы (а мы работали до осени) между нами не было ни одного конфликта, хотя бригада была смешанной и состояла из историков и филологов разных курсов.
Когда осенью, в конце сентября, мы вернулись в университет, нас ждала новая работа. Учебный год начался, но многих преподавателей, студентов и студенток факультета уже не было среди нас: ушли на фронт. В их числе – наш любимый декан А.П. Плакатин, преподаватели И.С. Шевцов, А.А. Фатхеев, студенты – зам. секретаря партбюро университета Иван Ионов, коммунист Иван Антонов, несколько позже – коммунист Сергей Бурматин, комсомольцы Сергей Романовский, Александр Лосев, Георгий Иванов и наши первые девушки-добровольцы Фая Романова, Миля Кондюрина, Тагира Сайфуллина, Нина Кондратенко, Соня Исхакова, Рита Клементьева – одни медсёстрами, другие – радистками и телефонистками, третьи – в училища специального назначения.
Те, кто остался, продолжали учиться и трудиться. Нельзя забыть, как группы студентов (среди них немало было историков и филологов), растягивались в длинные цепочки, шли во главе с доцентом С.Г. Каштановым через весь город на меховые предприятия и там, под большими навесами, разбирали, тщательно сортируя, меховые лоскутки, набивали ими мешки и вечером возвращались домой. По ночам из этих лоскутков студентки шили меховые рукавицы, жилеты и чулки.
Однажды студенты-комсомольцы были собраны в комитете комсомола и его секретарь студент географака Леонид Тузов сообщил, что по решению правительства в Казань эвакуируется Академия наук СССР, приезжают видные учёные, которых надо встретить, помочь с организацией жилья и лабораторий. Это задание было принято как чрезвычайно важное. Студенты города были горды, что им поручается такое ответственное и почетное задание. Предоставлялась возможность увидеть живых академиков, корифеев отечественной и мировой науки и чем-то помочь им в трудную минуту жизни.
Навсегда запомнилась встреча первого эшелона учёных Академии наук, прибывшего из Москвы в Казань. Прошло какое-то мгновение после того, как остановился поезд, и вот уже около нас стояли вице-президент АН СССР академик О.Ю. Шмидт с его легендарной бородой, которого мы знали раньше только по газетам как бесстрашного «ледового комиссара», участника спасения челюскинцев и замечательного полярного исследователя; академик Б.Д. Греков с его седой, благородной шевелюрой; академик Е.В. Тарле в коротком и несколько старомодном демисезонном пальто и шляпе; высокий и прихрамывающий член-корреспондент АН СССР профессор А.В. Ефимов, видный историк нового времени академик А.Н. Крылов, знаменитый русский учёный-кораблестроитель с импозантной бородой в виде лопаты; бледный, с острыми глазами и матовым лицом член-корреспондент АН СССР профессор Е.А. Косминский, талантливый историк-медиевист; суетливый и подвижный профессор О.Л. Вайнштейн; профессор Б.Ф. Поршнев с несколько утомленным, но очень наблюдательным взглядом; тщательно выбритый профессор В.Т. Дитякин в старомодных тёмных очках в железной оправе, какие носил в свою пору Н.А. Добролюбов; член-корреспондент АН СССР профессор Л.Н. Иванов, подтянутый и с гордо посаженной головой, и ссутулившийся, вобравший голову в себя человек гвардейского роста профессор М.В. Левченко. А за ним – десятки старших и младших научных сотрудников.
Большинство прибывших учёных направилось в университет и наскоро, буквально за несколько часов, исторический актовый и предактовый залы, большая аудитория с колоннадой, где до Октябрьской революции размещалась университетская церковь, были превращены в общежитие для работников АН СССР. Из студенческого общежития сюда перенесли кровати и тумбочки, остальное доделывали сами учёные.
Непонятно, как скреплялись друг с другом одеяла и простыни, как появлялись импровизированные комнатки-шалаши, у которых был единый пол из старинного паркета и единый лепной потолок, сооружённый по проекту М. Пятницкого. В этих шалашах-комнатках протекла необычная жизнь многих учёных, сотрудников Академии и членов их семей.
На одной тумбочке стояла настольная лампа с импровизированной чернильницей, на другой – шумел и пыхтел примус. Когда вдруг гас свет, появлялись свечи или керосиновые лампы, и в ульях актового зала продолжалась жизнь.
Разместившись, академики, члены-корреспонденты АН СССР, доктора и кандидаты наук приступили к своим обыденным прежним обязанностям. Часть аудиторий была освобождена для лабораторий академии и мы, студенты, помогали размещать аппаратуру, делали непонятно для чего какие-то специальные тёмные кабины, перевозили с загородного склада специальную химическую посуду, возили кирпич, разводили цемент, помогали устанавливать на постамент какие-то приборы, а на дверях отдельных лабораторий привинчивали таблички с надписью: «Посторонним вход воспрещён!».
…Идут учебные занятия. Лекции по истории Древней Руси читает академик Б.Д. Греков. Один из нас был знаком с ним заочно раньше. Дело в том, что на семинарских занятиях, где изучалась «Русская правда», у студентов развернулась оживлённая дискуссия по вопросу о том, можно ли было считать обельных холопов рабами. Спорили до хрипоты, но ни к каким результатам не пришли. Тут кто-то предложил написать письмо Б.Д. Грекову – крупнейшему знатоку этих проблем. Письмо поручили написать председателю научного кружка Н. Мунькову. В апреле 1941 года пришёл ответ учёного. Необычайно интеллигентный, исключительно обязательный человек Б.Д. Греков извинялся за то, что задержался с ответом, объяснил причины этого и обстоятельно разъяснил суть волновавшего всех нас вопроса. В заключении письма он писал: «Хотелось бы побывать как-нибудь у вас». И вот теперь, волею обстоятельств, менее чем через полгода его желание осуществилось, а мы, студенты, получили возможность слушать его лекции и общаться с ним почти ежедневно. Голос его тихий, он совсем не оратор, в руках держит свою книгу «Киевская Русь», держит её раскрытой, но в неё не смотрит и что-то говорит и говорит, а мы смотрим на него, не всё понимаем, да и не можем всё понять. Ведь на лекциях сидели студенты разных курсов: всем хотелось послушать знаменитого Грекова, под редакцией которого вышло первое издание первой части учебника по истории СССР для вузов.
В январе 1942 года в университете возобновились учебные занятия. В наши филологические и исторические группы влились студенты, эвакуированные из западных районо страны, из Ленинграда. Особенно запомнились Л. Ачкасов, А. Элерт, М. Окунева, И. Греков, А. Трембицкая. К. Кауфман, Е. Пантелят.
Теперь студенты-историки имели возможность слушать лекции академика Е.В. Тарле, блестяще читавшего спецкурс по истории наполеоновских войн. Средние века читали вначале член-корреспондент АН СССР Е.А. Косминский, а затем – профессор Б.Ф. Поршнев; историю нового времени – член-корреспондент АН СССР профессор А.В. Ефимов, которого сы слушали с большим вниманием, так как под его редакцией был издан первый вузовский учебник по новой истории; историю колониальных и зависимых стран читал старый казанец, профессор В.Т. Дитякин, который был связан с университетом ещё с 1920-х годов. <…>
Читать лекции зимой 1942 года было очень трудно. Университет почти не отапливался, окна были промёрзшие, стены многих аудиторий заиндевели. Профессора читали лекции не только в пальто, но и в шапках и даже рукавицах. Как сейчас видится согбенная фигура профессора М.В. Левченко в больших старых валенках, в потёртом полушубке, с поднятым воротником и в каракулевой шапке «гоголь», руки в больших несоразмерных рукавицах. Уткнув рот и нос в воротник, он читал историю Византии, то и дело пересыпая свою речь латинскими и греческими фразами, которые мы не понимали. Однако это совершенно не смущало старого профессора, который мог весьма учтиво обращаться к аудитории, состоявшей всего из… двух человек. Может быть, он даже и не видел этих энтузиастов науки, т.к. читал свои лекции, закрыв глаза.
Слушать и записывать лекции тоже было очень трудно. Чернила мёрзли, приходилось брать чернильницу в руки и дышать на неё, не хватало даже простых карандашей, не было тетрадей, нередко под тетради шли обратные стороны висевших плакатов. Помним, как однажды были присланы в университет простые карандаши и они раздавались комитетом комсомола активистам в виде премии.
В июне 1942 года закончился первый военный учебный год, встали новые задачи, нужно было преодолевать и новые трудности. <…>
В годы войны были открыты новые отделения: классическое и татарское, а позднее – логики и психологии. Особенно важным было создание отделения татарской филологии. Здесь начали готовиться, вслед за аналогичным отделением в пединституте, кадры для национальной школы, печати, радио, для всей татарской социалистической культуры. Многие воспитанники этого отделения стали замечательными учёными, педагогами, видными писателями и публицистами, партийными и советскими работниками.
Контингент студентов факультета к концу войны значительно возрос. Эти итоги работы были подведены на его первом юбилее (пятилетии со дня восстановления), который отмечался осенью 1944 года.
<…>
1944 год был знаменательным не только для факультета, но и всего университета. Торжественно встречался новый год. С актовой речью выступил старейший профессор факультета Г.Ф. Линсцер. Впервые за военные годы в актовом зале была установлена новогодняя ёлка. Она простояла там более недели и была радостью для всего коллектива университета, начиная от убелённого сединами профессора и кончая юным студентом. Надо правду сказать: как было ни тяжело, но студенты умели учиться и отдыхать. И в военные годы устраивались самодеятельные концерты, проводились танцы, забавные игры, а на другой день те же студенты по ночам патрулировали город и внимательно следили, чтобы окна в домах были тщательно зашторены и светомаскировка соблюдалась неукоснительно строго.
<…>
После эвакуации Академии наук университет стал жит просторнее. В нём стало светлее и теплее, т.к. начали давать больше электроэнергии, а также был выделен каменный уголь и дрова для библиотеки. Библиотека для нашего факультета тогда была главнейшей лабораторией.